Автослесарь Николай Сергеев (Серебряков) живёт вместе с женой Лилией (Лядова) и сыном от первой жены Романом в маленьком городке Прибрежный близ Баренцева моря, в доме на берегу небольшой бухты, куда порой заплывают киты. Когда коррумпированный мэр города (Мадянов) пытается изъять почти всё имущество Николая - дом, автомастерскую и его землю, установив выкупную сумму не позволяющую приобрести жильё в городе, Николай, проиграв два суда, прибегает к помощи старого друга по армии Дмитрия Селезнёва (Вдовиченков), ныне уважаемого столичного адвоката, который определяет единственный способ борьбы с политиком - найти на него убойный компромат… История создания фильма «Левиафан» началась в 2008 году. На съёмках новеллы для киноальманаха «Нью-Йорк, я люблю тебя» переводчица и ассистент Андрея Звягинцева Инна Брауде рассказала ему историю о сварщике из штата Колорадо Марвине Джоне Химейере, у которого новые владельцы цементного завода решили выкупить мастерскую, расположенную на их территории. Марвин не шёл ни на какие соглашения, и тогда управление завода попросту огородило его забором. Отчаявшись бороться за свою собственность, пройдя все круги бюрократической судебной и исполнительной системы, он оборудовал многотонный бульдозер пуленепробиваемой броней, буквально запаяв себя в кабине, и выехал на нём из своей мастерской. Он разрушил все постройки цементного завода, полностью снёс забор, отгородивший его от внешнего мира и направился в город. Полиция пыталась препятствовать ему чем только могла, в него было выпущено более двухсот пуль, были сооружены заслоны из тяжеловозов, но все старания были совершенно напрасны, бульдозер сметал всё на своем пути, методично снёс около десятка административных зданий и, завершив своё возмездие, Химейер сказал в громкоговоритель, что «до сих пор никто не хотел его слышать, теперь же услышали все». После чего в кабине своего бульдозера он покончил собой. В этом инциденте не пострадал ни один человек, кроме самого Химейера. Звягинцев загорелся идеей снять фильм в США по этим событиям, но потом прочёл новеллу Генриха фон Клейста «Михаэль Кольхаас» со схожим сюжетом и понял, что имеет дело с вечным мотивом, а действие фильма решил перенести в современную Россию. Исток этого вечного сюжета, при определенном усилии, можно найти и в истории несчастного библейского Иова. Левиафан - мифологическое чудовище. А скоро была найдена и ещё одна аллюзия - параллель с текстом английского философа XVII века Томаса Гоббса, который в своём трактате «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» сравнил государственную машину с Левиафаном, так как и первое, и второе уничтожают человеческую природу и уничтожают свободу. В декабре 2010 года Олегом Негиным (писателем и автором сценариев к фильмам «Изгнание» и «Елена») была написана первая версия сценария под рабочим названием «Батя», действие которого разворачивалось в России, но повторяло события американской трагедии. Сценарий изобиловал ненормативной лексикой, что в некоторой степени смутило продюсера картины Александра Роднянского, и помешало запустить проект сразу по завершении работы над фильмом «Елена» (2011). Вторая версия сценария, уже под названием «Левиафан» была закончена осенью 2012 года, но уже с лета Звягинцев искал «заштатный маленький городок». В поисках места действия фильма творческая группа картины посетила более 70 городов в радиусе 600 километров от Москвы, совершив путешествие от Пскова до Владимира, от Ярославля до Орла, заглянув даже в Беларусь. Окончательный выбор пал на поселок Териберка (расположенный на берегу Баренцева моря) и город Кировск Мурманской области. С мая по июль 2013 года силами художественного департамента под руководством художника-постановщика картины Андрея Понкратова велось строительство декораций. Скелет синего кита весом в полторы тонны и длиной 24 метра, изготовленный бутафорами на металлическом каркасе, был смонтирован в бухте рядом с посёлком Териберка в течение шести дней. Съёмочный период картины продолжался с 1 августа по 8 ноября 2013 года и составил 67 съёмочных дней. Кроме Кировска и Териберки некоторые съёмки проходили в посёлке Туманный, городах Мончегорск, Апатиты и Оленегорск Мурманской области, а также в Пошехонье (Ярославская область). Несколько интерьеров, с целью экономии средств на экспедицию, были сняты в Москве. Монтаж фильма занял 50 дней. Поиск актёров занял у Звягинцева почти год. Для того, чтобы сродниться со своим персонажем Алексей Серебряков («Серп и молот», «Упырь», «Тесты для настоящих мужчин», телесериал «Штрафбат», «Побег», «Перегон», «Груз 200», «Глянец», «Обитаемый остров», «Золотое сечение», «ПираМММида», «Жила-была одна баба», телесериалы «Белая гвардия» и «Ладога») брал костюм своего героя накануне съёмочного дня и обживал его, приезжая и уезжая со съёмочной площадки в нём. Отказавшись от участия в других проектах, он не выезжал из Териберки два с половиной месяца, посвятив себя целиком фильму «Левиафан». То же сделала и Елена Лядова («Космос как предчувствие», «Елена», «Географ глобус пропил», телесериал «Пепел»), весь съёмочный период оставаясь с группой в экспедиции. Это было очень важно для того, чтобы «нажить» отношения, сделать дом Николая наполненным духом самой жизни. Актриса Анна Уколова (телесериал «Закон», «Точка», «Жить», «Географ глобус пропил») по просьбе режиссёра поправилась для съёмок на 15 кг. Между пробами Владимира Вдовиченкова (телесериал «Бригада», «Бумер», «Бумер. Фильм второй», «Тарас Бульба») и его утверждением на роль прошло несколько месяцев. В этот период времени Вдовиченкову поступило предложение о съёмках в британской картине под названием «Чёрное море» режиссёра Кевина Макдональда с Джудом Лоу в главной роли. Вдовиченков уже дал устное согласие англичанам, и тут ему сообщают, что он утвержден на роль в «Левиафане». Для Владимира это явилось серьёзным испытанием, которое он всё же преодолел в пользу работы со Звягинцевым. В одном из эпизодов сцены «Пикник у озера», персонажи Алексея Серебрякова, Владимира Вдовиченкова, Сергея Бачурского и Алексея Розина выпивают по полному стакану водки в честь дня рождения Степаныча (Бачурский). В результате ошибки реквизитора в первом же дубле актёрам была дана бутылка с настоящей водкой, которую они и выпили. Только после команды «стоп» актёры сообщили о том, что водка настоящая. Все четверо решили, что это был розыгрыш режиссёра, и едва ли верят до сих пор, что это было не так. Таким образом, актёры испытали на себе «суровый российский обычай» пить водку стаканами. Над новым кинополотном Звягинцева работала почти та же съёмочная группа, что и над предыдущим, «Еленой»: к примеру, операторскую работу осуществил Михаил Кричман («Небо. Самолёт. Девушка», «Возвращение», «Бедные родственники», «Изгнание», «Овсянки», «Елена»), а музыкальную - американский композитор Филип Гласс («Кундун», «Часы», «Иллюзионист», «Мечта Кассандры», «Кремень», «Елена»). «Левиафан» был показан отборщикам 67-го Каннского МКФ ещё до окончания процесса монтажа, а также работ по сведению звука и был принят в основную конкурсную программу. Премьера фильма состоялась в последний день фестиваля, 23 мая 2014 года, сразу после показа была высоко оценена российской и зарубежной кинокритикой, в итоге фильм был удостоен приза за лучший сценарий. «Левиафан» должен был открывать программу российского кино на 36-м Московском МКФ. Но показ не состоялся - из-за ненормативной лексики фильму не было выдано прокатное удостоверение в России. В конце июня прокатное удостоверение было получено с ограничением по возрасту «18+» в связи с наличием нецензурной лексики. Прокатное удостоверение «Левиафан» получил до 1 июля 2014 года, то есть до вступления в силу закона о запрете нецензурной лексики в кино, и может быть показан в первоначальном виде. Однако продюсер картины Александр Роднянский заметил, что мат в фильме всё равно придётся править. «Прокатное удостоверение мы действительно получили, но это не освобождает нас от ответственности за соблюдение закона РФ». После Канна последовало триумфальное шествие «Левиафана» по киносмотрам мира. Фильм завоевал приз за лучший иностранный фильм на 32-м международном Мюнхенском кинофестивале и Главный приз фестиваля европейского кино в Паличе (Сербия); был признан лучшим фильмом 58-го Лондонского МКФ с формулировкой «оригинальное и умное кино... пронзительный фильм, рассказывающий трагическую историю конфликта между человеком и коррумпированной системой в маленьком российском городе»; на Индийском МКФ в Гоа получил высшую награду – «Золотого павлина», а Алексей Серебряков был назван лучшим актёром; Михаил Кричман был удостоен главного приза «Золотая лягушка» на 22-м международном фестивале искусства кинооператоров «Camerimage» в Быдгоще (Польша); выиграл Гран-при «Чёрная жемчужина» и приз за лучшую мужскую роль (Серебряков) на МКФ в Абу-Даби. Не обошли стороной «Левиафан» и различные кинематографические премии: четыре номинации на премию Европейской киноакадемии: лучший фильм, лучший режиссёр, лучшая мужская роль и лучший сценарий (правда, ни одной победы), попадания в многочисленные кинотопы года по мнению зарубежных кинокритиков, номинация на престижную американскую кинопремию «Film Independent Spirit Awards» («Независимый дух»), номинации на премию британской киноакадемии BAFTA в категории «Лучший фильм не на английском языке» (церемония пройдёт 8 февраля 2015 года) и на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» (церемония вручения состоится 22 февраля 2015 года). В январе 2015 года «Левиафан» стал первым в истории российским фильмом, удостоенным американской премии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», обойдя картины из Польши, Швеции, Эстонии и Израиля. В России фильм вызвал неоднозначную реакцию как стороны кинокритиков, так и общественности. Министр культуры РФ Владимир Мединский после просмотра фильма заявил, что лента оставила у него «сложные» впечатления. Так, его поразила ненормативная лексика героев фильма, а также постоянное употребление ими алкогольных напитков. По мнению Мединского, фильм не пострадает от того, что из него вырежут мат. Фильм талантливый, но он ему не понравился. Менее чем за месяц до премьеры пиратская копия ленты попала в интернет, после чего в соцсетях и патриотической прессе на авторов фильма обрушилась волна упреков. Их обвиняют в очернении России и в политической конъюнктуре, а успех фильма объясняют следствием недоброжелательного отношения Запада к России. Православные активисты обратились к министру культуры Мединскому с просьбой запретить показ фильма в России. Власти Самары, получили коллективное письмо с просьбой наказать исполнителя роли архиерея Валерия Гришко за участие в «клеветническом опусе» и «изощрённом поношении Российской власти и Православной Церкви». Татьяна Трубилина, глава села Териберка, в котором снимался фильм, 12 января 2015 года выступила против показа ленты на больших экранах: «Впечатлений (от фильма) особых нет, мы здесь все алкаши, живущие в собственной помойке. С эстетической точки зрения я против показа, я вообще не знаю, кому этот фильм стоит смотреть». Подавляющее большинство известных российских кинокритиков назвали «Левиафан» одной из лучших картин года. Британский киножурнал «Sight & Sound» признал «Левиафан» одним из десяти лучших фильмов 2014 года. Согласно данным интернет-агрегатора «Metacritic», «Левиафан» стал одной из тридцати картин, чьи наименования чаще всего встречались в списках лучших фильмов года.
«Первое, что удивляет в картине Звягинцева: почти до середины это комедия, причём комедия одинаково смешная и для русских, и для иностранцев… Второе: этот фильм - сумма всех страхов российского кинематографа и русского общества; сюжет напоминает о «Долгой счастливой жизни» Хлебникова, тур де форс несправедливости и произвола - игровые картины Лозницы… Алексей Серебряков, спрашивающий у священника: «Ну и где твой Бог?», - уже задавал похожий вопрос в «Грузе 200». Но «Левиафан» - довольно мощное обобщение, в котором собраны ответы на многие вопросы о русской жизни, и обо всём говорится в лоб, чтобы не оставалось недомолвок… Самое распространённое у русских критиков определение «Левиафана» - это «энциклопедия русской жизни в 2014 году». Кто бы десять лет назад мог подумать, что подобные слова будут сказаны про Звягинцева. Однако его склонность к универсализму никуда не делась… Звягинцев хочет быть художником, который из России говорит со всем миром на понятном языке, и у него каждый раз получается» (Мария Кувшинова, «Сеанс»). «Кто бы мог подумать, что наиболее внятно, объёмно и резко о сегодняшнем дне в России выскажется режиссёр, которого ещё недавно числили по ведомству свободно конвертируемых и весьма безопасных «общечеловеческих» притч? Что именно он, борец «за духовные ценности», снимет вполне беспросветный фильм об их абсолютном кризисе? Что на фоне истошных религиозных камланий и призывов возврата к «традиционным ценностям», именно он, «наследник традиций», не только выступит с очень смелым по нынешним временам антиклерикальным посланием, но и покажет, что возвращаться, собственно, не к чему. Все сгнило, как остов выброшенного на берег гигантского кита-левиафана. Все превратилось в фальшь и пародию. Испитые фарисеи со скошенными от постоянного вранья глазами (такого персонажа пугающе достоверно играет в фильме Роман Мадянов) под благовидным, духоподъёмным и богоугодным предлогом, не поморщившись, упекут куда надо истинных носителей традиций и «духовных ценностей». Тоже испитых от постоянного горя. Новый фильм Андрея Звягинцева - это тугая криминальная драма, содержащая наиболее жёсткую социальную критику в отечественном кино со времен «Груза 200». Но «Груз...» был как бы о «прошлом», в то время как «Левиафан» совершенно не стесняется примет сегодняшнего дня, не опасаясь уже предъявленных ему обвинений в конъюнктурности» (Стас Тыркин, «Комсомольская правда»). «Многоэтажная символика взрывается откровенной публицистикой, сгустками злободневной реальности, мифология прячется за шаржем, трагедия развенчивается простонародным фарсом. Монструозный «Левиафан» и не хочет нравиться, он груб, порой смешон, порой вульгарен. Здесь всего через край: и водки, и шансона, и гнева. И безысходности… Звягинцев не таит фиг в кармане, более того, переходит почти на площадной язык, желая точно быть понятым. Он не боится конкретики, которая указывает на связь всего со всем. Памятника Ленину перед администрацией, «Пусси Райот», портрета Путина над головой мэра, водки из горла, священника с благовидными речами и неблаговидным закулисьем на фоне Тайной вечери. Вот почему травматичный «Левиафан» и вызывает столь противоположные отклики» (Лариса Малюкова, «Новая газета»). «Фильм и правда замечательный: большое кино - талантливое и смелое, свободное и бескомпромиссное… С поразительными пейзажами русского Севера, сурового Баренцева моря, из недр которого в самый драматический момент совершенно естественно является кит - библейский Левиафан. С виртуозным сочетанием высокой и низкой образности. С юмором, который раньше вроде не входил в число добродетелей Звягинцева… И вот что интересно: лучшие картины мирового кино показывают жизнь человека как мучительную драму морального выбора, а окружающую действительность - будь то внешне благополучная европейская Бельгия, или проблемная Турция, или Россия, - как юдоль несправедливости и страданий. Сколько бы их ни обвиняли в сгущении красок, в нагнетании негатива, так видят эту жизнь большие художники, чуткие к человеческой боли» (Андрей Плахов, «Коммерсантъ»). «Звягинцев - не панк, но его фильм вполне тянет на молебен. Здесь, как и у «Pussy Riot», форма у многих вызовет отторжение, а содержание покажется излишне плакатным, но на самом деле и акция в храме Христа Спасителя, и «Левиафан» находятся в том почти сакральном пространстве, где одинокое противостояние злу требует именно этого: вызова и прямолинейности. Хотя «Левиафан» - всё-таки не эпатажная акция, а сложнейшее многофигурное полотно, населённое живыми персонажами, каждый из которых переживает свою драму, при этом захватывающе (но не картинно) красивое и суровое. Это новый рубеж для виртуоза-самоучки Михаила Кричмана, одного из самых блестящих российских операторов. Что важнее, это и лучшая картина Звягинцева. Возможно, поэтому здесь есть всё то, в отсутствии чего режиссёра дежурно упрекали его многочисленные критики: отличные диалоги, эротизм, юмор, изысканно нелинейная драматургия - ружей хватает, но в финале они выстрелят не так, как вы ждёте» (Антон Долин, «Афиша. Воздух»). «Слишком сложно отделаться от первых эмоций, протереть глаза, вытащить из ушей этот гул от музыки Филиппа Гласса на финальных титрах… На этот раз внутренний, метафизический сюжет вертится вокруг истории Иова - человека, который потерял всё, но только не веру в Бога. С той лишь разницей, что Звягинцев не продолжает повествование до счастливого финала - момента, когда Бог заметит Иова и воздаст ему за все страдания. Наоборот, фильм обрывается на самой больной ноте. Зло, не понесшее наказания. Страдания, оставшиеся без прощения. Будущее, в котором нет надежды. И люди, в которых так много человеческого - и так мало человечности. Этот фильм - и есть левиафан. Мифическое чудовище, пожирающее каждого на своём пути. И он же - единственное спасение от него» (Никита Карцев, «The Hollywood Reporter»). «Левиафан» - ультимативный, в своей полноте практически невозможный зрительский опыт. Потёртые слова «энциклопедия русской жизни» в его отношении не пустой звук - это, среди прочего, и галерея всех ещё имеющих хоть какое-то значение типажей и социальных страт современной России: чиновник, священник, мент с одной стороны - и обыватель с разночинцем-юристом с другой. Глупые мужья и неверные жены. Условно деревенские и условно городские. Подросток - единственная возрастная категория, под репрезентацию которой в фильме Звягинцева отведен отдельный персонаж: хотя бы потому, что по своей психофизике именно в переходном возрасте застревают все остальные его герои. Это всеохватное, всеядное кино, в пространстве которого находится место всему, от «Pussy Riot» до гопнических пинков с двух ног сразу (маленький секрет для каратистов-любителей - нужна опора для рук). От Марвина Химейера и Михаэля Кольхааса до Иова. От «Груза 200» до «Долгой счастливой жизни». Всепожирающий Левиафан, а не фильм. И столкновение с ним, его разворот в полный рост, который случается в финале, конечно, оказывается для зрителя непереносим почти на физиологическом уровне» (Денис Рузаев, colta.ru). «Почему вам непременно следует вытерпеть этот 140-минутный русский фильм, который, по существу, представляет из себя осовремененную интерпретацию Книги Иова? Потому что это изумительное произведение искусства, вот почему! И потому что оно олицетворяет тот вид экспериментального и интимного кинематографа, который превосходит все языковые барьеры и любые другие границы… Игра актёров более чем отличная, оператор Михаил Кричман создает поэзию из света и его отсутствия, а опера Филипа Гласса 1983 года «Akhnaten» электризует действие. Звягинцев, в свою очередь, воссоздаёт библейский сюжет в контексте современности, наделяя смыслом каждую мельчайшую деталь на экране. «Левиафан» с кинематографическим величием «причёсывает» суровую реальность и подтверждает, что Звягинцев - талант мирового масштаба» (Питер Траверс, «Rolling Stone»). «Это кино производит впечатление, да, и всё-таки к этому впечатлению примешивается раздражение, в причинах которого поначалу не хочется разбираться. Дело в том, что по фильму действительно можно судить о состоянии страны, он совершенно ей адекватен - и потому вызывает столь же неоднозначные чувства. Он так же, как она, мрачен, безысходен, вторичен - как и Россия вечно вторична по отношению к собственному прошлому, - внешне эффектен, многозначителен и внутренне пуст. Как и в России, в нём замечательные пейзажи, исключительные женщины, много мата и алкоголя, - но при сколько-нибудь серьёзном анализе сценарные ходы начинают рушиться, образная система шатается, а прокламированный минимализм (использована музыка Филипа Гласса) оборачивается скудостью, самым общим представлением о реалиях и стремлением угодить на чужой вкус. Это типично русская по нынешним временам попытка высказаться без попытки разобраться - спасибо «Левиафану» и за то, что он назвал многие вещи своими именами, и всё-таки увидеть в Звягинцеве наследника сразу двух великих режиссёрских школ - социального кинематографа 70-х и метафизического кино Тарковского - мне пока никак не удается» (Дмитрий Быков, «Новая газета»). «По Звягинцеву, снявшему фильм-бестиарий, выходит, что РФ, как и всякая тварь, создана в назидание человеку, как наглядный пример того, как оно всё под небом устроено. Звягинцев практически за руку подводит зрителя к этой мысли - и этот настойчивый guidance может очень раздражать. Но условный «критик» - не тот, кому протягивает свою руку режиссёр. Звягинцев делает всё возможное - и многое недопустимое в «хорошем кино», - чтобы донести эту сложную метафорическую конструкцию до условного «простого зрителя», идёт на всё, чтобы фильм был удобоваримым. Он одновременно пытается сделать фильм слепком российской фактуры - и абстрагироваться от неё (из всех российских ландшафтов он выбирает самый неземной, стерильный, лишенный любых примет русскости). Он не стесняется сентиментальных, предсказуемых, берущих за душу ходов - и при этом в других случаях проявляет крайнюю деликатность, оставляя за кадром все сцены секса и насилия… Слишком пристальный взгляд видит в этом сочетании разнородных элементов эклектику, грубый расчёт и даже известную надсадность. «Левиафан» действительно выглядит не как фильм-организм, но как фильм-артефакт. Но ведь это кино является описанием механизма - и потому само оказывается схемой, чертежом. Механистическая (стимул - реакция, стимул - реакция) логика повествования тут - это просто голая аристотелевская схема драмы, по сути - схема саспенса, в котором долгие ожидания зрителей обманываются финальным сюжетным твистом. Именно этот финальный поворот, а вовсе не натуралистическое изображение ужасов российской жизни, и есть главная цель всей этой цепочки несчастий, безответных вопросов и тяжеловесных метафор» (Василий Корецкий, colta.ru). «Звягинцев, на мой взгляд, не моралист. Эпиграф великого романа об адюльтере: «Мне отмщение, и Аз воздам» приходит на память оттого, что режиссёр постоянно находится в поле культурных реминисценций. И всё-таки есть в этом фильме урок. А может, и не урок даже, а комментарий на полях нашей жизни. Декалог, десять заповедей, - вовсе не предписания Создателя, записанные на скрижалях, а суммированный опыт жизни человечества задолго до явления Христа. Поставив над собой Закон, люди стали сообществом, способным продвигать процесс жизнетворчества и жизнестроительства. Но время от времени - по крайней мере, с тех пор, как они научились кодировать в библейских притчах хронику жизни человечества, - приходит сатана, дьявол - короче, абсолютное зло в разных воплощениях, нередко прельстительных, и пытается сокрушить Закон, поломав все десять главных механизмов жизни. И тогда нежить правит бал. Мне кажется, выбирая натуру для съёмок, подыскивая тихий провинциальный городок, Звягинцев облюбовал берег Баренцева моря не за экзотическую дикую его красоту. Разумеется, северные морские пейзажи в исполнении Михаила Кричмана придали исключительность изобразительной фактуре фильма. Фишка - в сохранившейся первозданности этих мест, снятой так, будто мы застали Вселенную в дни первотворения, когда в морской стихии безраздельно властвовал левиафан» (Елена Стишова, «Искусство кино»). |
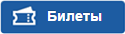
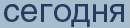 ВПЕРЁД5 - 18 марта  БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ ДЕНЬ19 - 20 марта 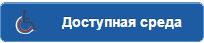  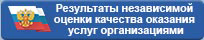   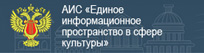 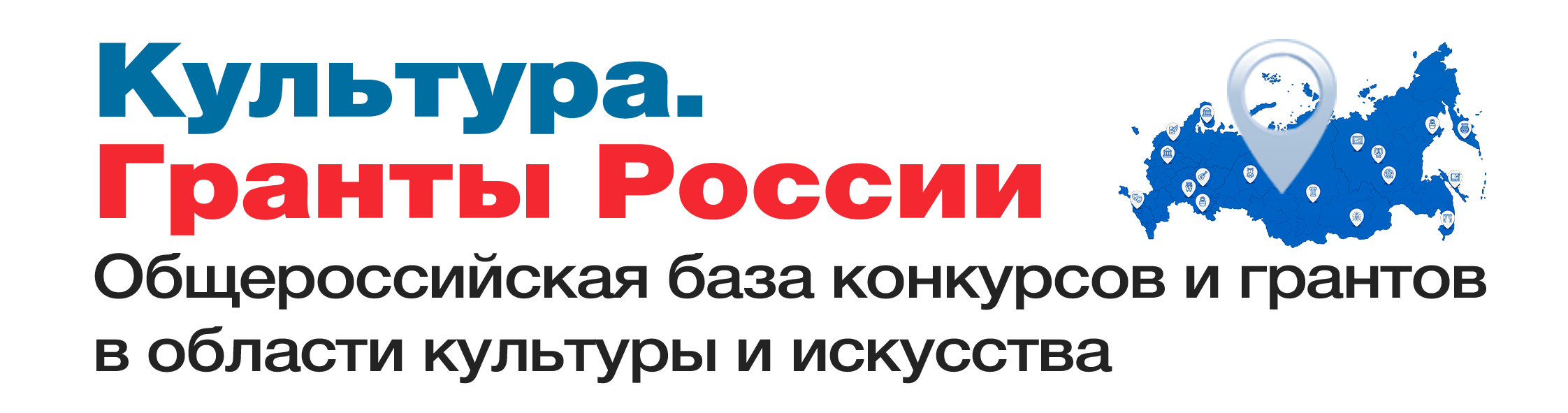 |


